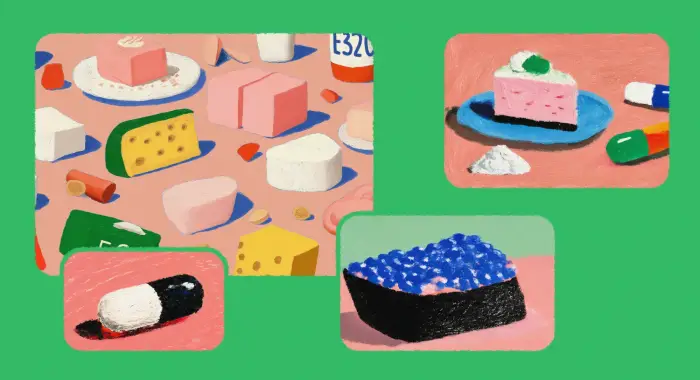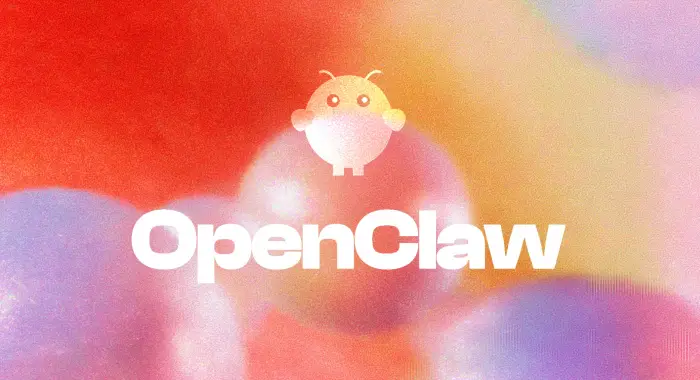«Литература — вариант для маньяков, у которых нет другого выхода»
Писатель Рагим Джафаров о том, как гуманитарию реализовать себя в техноцентричном мире

Рагим Джафаров, из личного архива
Рагим Джафаров с детства хотел стать писателем — и к 31 году у него есть пять изданных романов и три литературные премии. А еще Рагим работает в «Яндексе», шеф-редактором AI-тренеров — людей, обучающих искусственный интеллект. Как лингвист по образованию получил работу в технологической компании, почему он не собирается бросать литературу, которая не приносит денег, и какие навыки помогут гуманитарию реализовать себя в современном техноцентричном мире, Джафаров рассказал на встрече с подписчиками Reminder (видео — внутри текста). Мы публикуем выдержки из его выступления.
«Я не делал ничего, чтобы стать писателем»
Если у кого-то есть мечта зарабатывать на жизнь литературой — я вас разочарую. В России жить на доходы от своих книг могут человек, может быть, пять. И то, они живут не на гонорары как таковые, а благодаря монетизации своей популярности.
Вопрос, конечно, в том, как жить — если вы сидите, допустим, во Владикавказе и снимаете квартиру за 20 тысяч рублей, то в общем-то жить можно. Но если вы хотите жить в Москве, хотя бы иногда отдыхать, куда-то ездить, то никакой литературный успех в России вас к этому не приведет. Любая другая деятельность, даже кричать в аналоге «Макдональдса» «свободная касса», — намного более простой и гарантированный способ заработать денег.
Я не сумасшедший и сознательно никогда профессию писателя не выбирал. В моем случае нужно говорить, скорее, про идентичность. Очень яркий эпизод — мне четыре года, родители перевезли меня из Баку, где я родился, в деревню Кривополянье. И вот я иду в Кривополянье по улице Пендяки. Грязи по колено, я в резиновых сапогах, они с меня сползают. И думаю, что хочу написать про это книжку. Монтажная склейка — через 20 лет я еду на интервью к Дмитрию Быкову, ныне иноагенту, а тогда одной из самых авторитетных фигур в русской литературе. И как это все произошло, я, честно говоря, плохо понимаю.
Мой карьерный трек, на самом деле, нельзя считать каким-то показательным: я выбрал самый долгий и идиотский из возможных путей. Почти все мои родные — военные, и я тоже должен был делать военную карьеру, но, слава богу, не сложилось. После школы поступил в институт на лингвиста, но не доучился: достаточно быстро понял, что работать переводчиком я никогда не буду. Отчислился со второго курса и пошел в армию. Это был прекрасный вариант год ничего не делать и подумать, наконец, как ты планируешь строить жизнь дальше.
За этот год я не придумал ничего лучше, чем пойти в пиар — где еще нужны гуманитарии без образования? Сначала просто писал какие-то пресс-релизики, мне довольно быстро стало скучно, и мы с другом занялись таким гонзо-пиаром — придумывали адовые истории, к которым можно прикрутить бренд. Из ярких примеров — кампании для Burger King, которому как раз это и было нужно. «Большой хрен для Ольги Бузовой», кофе руссиано, предложение переименовать «Зенит» в «Зенит Бургер Кинг» за 500 миллионов. Затраты на реализацию всего этого — два рубля, а новости о нас были во всех федеральных СМИ. И за это нам отлично платили.
Мы весело и жирно жили, но скоро это закончилось — рынок стал стерильным, обижать никого нельзя, спрос на наше гонзо исчез. К тому времени как раз начались мои литературные приключения: я стал выигрывать литературные конкурсы, печататься.
В общем-то я не делал ничего, чтобы стать писателем. Я просто писал, каждый день, причем, в самых неподходящих для этого местах — чаще всего выкладывал свои рассказы в фейсбук (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистcкой организацией и запрещена). Без фото, без видео, просто текст. На протяжение пяти лет. За это время моя страница набрала какую-то массу подписчиков — тысяч 20, после чего пришли издательства и сказали «ваши рассказы хорошо вирусятся, давайте мы их издадим». В общем, это было долго и неэффективно, делать так не стоит.
А как делать? Самый простой путь: если вам меньше 35 лет, надо подаваться на конкурсы для молодых писателей, например, «Лицей». Туда можно отправить просто рукопись. Если вы его выигрывайте, вас практически гарантировано купит либо «Редакция Елены Шубиной», либо «Альпина» — это два издательства в России, в которые нужно целиться.
Еще одна дорога — писательские курсы, например, Band или Creative Writing School. Их ценность не в том, что там вас научат писать (скорее всего, не научат, если вы не умели), а в тусовке. Там постоянно крутятся редакторы, которые могут вас заметить, помочь напечататься сначала в толстых журналах, а потом и в издательстве.
На самом деле, если вы хорошо пишите — где угодно, даже на заборе — вас рано или поздно заметят. Потому что качественных текстов на рынке мало, за ними идет охота. Но хотелось бы раньше, чем позже, правда? Поэтому не делайте, как я, а сразу старайтесь попасть в издательство.
«Лучшие варианты — кино и игровая индустрия»
Я рассказываю о реализации в литературе, потому что моя история сложилась именно так. Но, на самом деле, я бы никому не посоветовал оказаться в этой индустрии.
Представьте ситуацию: вы крутитесь в мире корпоратов, где все медленно, неэффективно, абсурдно. Но там хотя бы понятно, для чего все это — ради денег. Собрались 10 человек, которые друг друга ненавидят, но их скрепляет цель — сделать проект, на котором каждый хорошо заработает. И вот вы переходите из этого мира в мир литературный, а там — все то же самое, только денег нет.
И на первый план выходит не желание заработать, потому что в литературе это невозможно, а личные тараканы. При этом надо понимать, что нормальные люди же не бывают писателями. Все в какой-то степени ******* [долбанутые]. И вот этот цирк уродов без денег вместе пытается что-то сделать. Как вы думаете, что происходит? Примерно через 20 секунд кто-то начинает кому-то выгрызать кадык.
Вот вы стоите впятером, ты отходишь в туалет и точно знаешь, что там эти четверо будут обсуждать. А если там в тусовке еще и поэты, это вообще тушите свет — им положено быть сумасшедшими. Если задача писателя, когда он пишет книгу, сойти с ума, вернуться и реализовать это как продукт, то поэтам надо сойти с ума настолько, чтобы просто никогда не возвращаться.
Если есть задача реализоваться в креативной сфере и при этом заработать какие-то деньги, это точно не про литературу. Лучшие варианты сейчас — это кино и игровая индустрия. Два бурно растущих рынка (особенно видеоигры), в которых всегда есть спрос на пишущих людей, сценаристов или нарративных дизайнеров.
Раньше большая литература была во главе пирамиды и влияла на кино, а кино, в свою очередь, породило новый рынок видеоигр. Сегодня все сильно изменилось. Самая большая по объему индустрия из этих трех — видеоигры. Это гигантские студии и проекты, в которых работают десятки тысяч человек. Может показаться, что с русским языком на международном рынке делать сегодня нечего, но на самом деле один из главных хабов развития видеоигр сейчас — Кипр, а пол-Кипра — это русскоязычные люди. Через одно-два рукопожатия в соцсетях вы сможете добраться до людей оттуда, пройти какие-нибудь курсы нарративного дизайна и уже попасть в обойму.
В видеоиграх очень большой потенциал реализации для творческого человека. Ни в литературе, ни в кино нет инструмента, который я называю переживанием опыта. Я хочу, чтобы читатель не просто прочел или увидел, что происходит с героем, а чтобы он 8 часов своими руками руководил им. Это совершенно другой уровень погружения.
И порог входа на этот рынок тоже совершенно другой. На порядок ниже. Реализация в литературе — это 10-15 лет, и то никто ничего вам не гарантирует. Ты просто пишешь, пишешь и пишешь каждый день без выходных, и ничего не происходит. Ты злишься, но ничего не можешь поделать. Так что литература — это вариант для маньяков, у которых нет другого выхода.
А в кино и играх начать зарабатывать и получать интересные проекты можно сильно раньше. Везде нужны хорошие истории, и если вы умеете их находить, чувствовать и описывать, развернуть их в нужном индустрии формате не составит труда.
«Гуманитариев в "Яндексе" довольно много»
Я довольно долго строил иллюзии о том, что могу жить нормальную жизнь. Но, честно говоря, сложно представить себе работу, которая бы не мешала писательству. Как это обычно происходит: ты живешь, как нормальный человек, ходишь на работу. Потом — щелк — и уходишь в запой на три месяца. Не в алкогольный, а в литературный. Я пишу ночами, днями сплю. И вот проходит три месяца, ты дописал книжку, выходишь, наконец, из дома, а там с работы тебя уже уволили и бизнес твой развалился.
Потом смирился и стал жить по схеме «подзаработал денег, ушел спокойно заниматься литературой». И в этом смысле «Яндекс» — отличная история.
Почему-то многим кажется, что гуманитарий не может работать в IT. Но аналитик никогда не напишет нормально описание своего продукта сам — всегда нужны люди, которые будут переводить с аналитического на человеческий. Впрочем, говоря о гуманитариях, нужно четко разделять людей, которые искренне интересуются языком и всем, что с ним связано, и тех, кого просто в Бауманку не взяли. Первых в «Яндексе» довольно много, а вторые и правда никому не нужны.
Со стороны может казаться, что для работы в литературе и в других креативных индустриях нужно только вдохновение, которого можно сидеть и ждать месяцами. А вот в корпорациях надо быть собранным и уметь в систематизацию. Это не так.
Давайте я расскажу, как работал над своим романом «Сато», с которого началась моя писательская карьера. Там довольно простая завязка — на прием к психологу приводят пятилетнего мальчика Костю, который утверждает, что он пленный контр-адмирал Сато. И всю книгу мы наблюдаем за отношениями внутри этой семьи через сессии ребенка с психологом. Чтобы это написать, мне понадобился реальный детский психолог, психиатр, несколько консультантов и годовой курс по нейропсихологии. Сначала я изучил весь доступный материал, разобрался в теме, а потом пошел к детскому психологу и сказал: вот у тебя такой клиент, мальчик. Как ты будешь с ним работать? Опиши конкретные приемы, план. А если это не поможет? А если мальчик будет отвечать вот так? То есть я через живого психолога провел моего вымышленного персонажа. И после этого фактчекнуть, кто владеет мессенджером Telegram (типичная мелкая задачка для AI-тренера), мне не сложно.
У меня нет рецепта, как гуманитарию перепридумать себя в технологической сфере. Потому что я этого никогда не делал.
А «Яндекс» — это отличная работа, которая не мешает писательству. Она интересная, она расширяет кругозор, там вечно какой-то движ происходит, ты на переднем крае развития технологий. Но я не собираюсь расти там карьерно и занимать какие-то посты. Я поработаю там год, например, и дальшу уйду заниматься литературными делами.
Попал я в «Яндекс» прозаично — знакомая моей жены скинула мне ссылку на вакансию. В ней было написано, что «Яндекс» ищет людей, которые шарят в русском языке. Это был масс-найм, пылесосили по всей литературной индустрии, многим моим знакомым писателям и сценаристам пришло такое предложение.
Нужно было пройти тест. Я попробовал — получилось.
На собеседовании мне сказали, что я единственный из 1500 кандидатов на работу в «Алисе» справился с заданием. Я не знаю почему. Ничего экстраординарного там не требовали — были тесты на орфографию, граматику, этику. Еще нужно было ранжировать ответы нейросети по степени качества и провести фактчекинг.
Уже в роли шеф-редактора AI-тренеров я проверил, наверное, тысячу таких же тестовых и могу сказать, что большинство из них написаны не просто плохо, а охренеть как плохо. Сначала я думал, что они скормили задания ChatGPT, но в «Яндексе» есть система, которая отсеивает плагиат и тексты, сгенерированные нейросетью. Почему это происходит? Полагаю, что английский или испанский в современном мире намного востребованнее, чем грамотный русский. Ну куда я это дену? Буду в переписке в телеграме говорить «сударь, вы деепричастный оборот обронили?». На литературный русский в современном мире просто нет спроса.
«Разработать стандарт хорошего текста — очень сложно»
Вся команда по тренингу нейросетей, встроенных в продукты, — это где-то 500 человек. В этой редакции есть три части: «Алиса», поиск и YandexGPT. С YandexGPT работает около 300 человек, включая меня, — это, на самом деле, гигантский масштаб.
Дальше эта команда делится на суперлидов, лидов, шеф-редакторов и AI-тренеров — такая стандартная пирамида. У каждого шеф-редактора есть своя команда AI-тренеров, в которую входит от двух до 25 человек. Тренер садится за компьютер, у него там свой яндексовский интерфейс, и он выполняет два базовых типа заданий (на самом деле их сильно больше, я опишу основные).
Первое и самое важное — это ранжирование. Тренеру прилетает запрос от пользователя, например: «Напиши поздравление для моей бабушки с юбилеем». Нейросетка генерирует пять ответов, а тренер оценивает каждый из этих ответов по 16 параметрам (я не могу их называть). И потом ранжирует их от лучшего к худшему. Это такая reward-модель, с помощью которой мы указываем нейросети, что говорить про бабушку в поздравлении плохо — плохо, а говорить про нее хорошо — хорошо.
Второе — это непосредственно написание текстов. Прилетает запрос от пользователя: «Проведи сравнительный анализ военного коммунизма и НЭПа». Или бывает что-то совсем сумасшедшее, типа «Сочини историю про то, как банан устал лезть в дупло и познакомился с майонезом». И люди сидят и пишут.
Шеф-редакторы менеджерят весь этот процесс — делают так, чтобы команда работала и соблюдала стандарты. Разработать единый стандарт хорошего текста — очень сложно, это в большой степени дело вкуса. Какого-то единого документа у нас нет, его не может быть по определению, мне кажется. Каждый кейс разбирается отдельно с опорой на те же критерии — этичность, грамотность, фактчекинг. Плюс шеф-редакторы решают сопутствующие обучению задачи, например, правовые — потому что где-то рядом с продуктом всегда стоят юристы, которые говорят: «Давайте, на всякий случай, все запретим». А у нас и так довольно много «заглушек», когда нейросеть отвечает «говорить на эту тему я не готова, чтобы никого не обидеть». Мы пытаемся искать баланс.
Это очень новая сфера и, мне кажется, в некотором смысле весь проект по обучению искусственного интеллекта в Яндексе — это такая человеческая нейросеть. Мы в ней как нейроны, которые растут и пытаются чему-то научиться.
«Нейросети отберут работу у тех, кто сам похож на робота»
Искусственным интеллектом как таковым я никогда не был очарован. Когда я слышу от знакомых восторги по поводу того, как пишет ChatGPT или YandexGPT, я им предлагаю открыть Булгакова и посмотреть, что такое по-настоящему «круто пишет». Конечно, мы в самом начале пути и дальше нейросети будут становиться только умнее. Но, честно говоря, я не знаю, как создать reward-модель, которая позволит нейросети написать хороший роман.
А нейросеть — это же просто статистика: она подставляет слова и буковки в текст, исходя из того, что в массиве данных, на которых она обучена, чаще всего слова стоят именно в таком порядке. Никакого творчества, все очень предсказуемо, понимаете?
Хорошая новость в том, что скоро мы, по всей видимости, доучим генеративные нейросети до того, что они вынесут с рынка плохие романы, которых на самом деле куча. Знаете, весь этот миллион книг про то, как в первой серии главный герой победил дракона и переспал с принцессой, во второй — победил двух драконов и переспал с двумя принцессами. А в качестве неожиданного твиста может победить принцессу и переспать с драконом.
И останется в индустрии только небольшое количество по-настоящему хороших писателей.
Страх того, что нейросети отберут у нас работу, отчасти оправдан. Конечно, у кого-то отберут — в первую очередь у тех, кто уже сейчас похож на робота. Все эти сотрудники колл-центров, которые говорят по адским скриптам и не могут шагнуть ни влево, ни в право, копирайтеры, которые в статье заменяют три слова и отдают заказчикам. Ребят, надо искать себя в чем-то другом, более осмысленном. Квалифицированным специалистам в любых сферах, всем творческим востребованным людям это не грозит — вряд ли когда-нибудь искусственный интеллект дойдет до такого уровня экспертизы.
Я смотрю на это иначе: ИИ сможет взять на себя много скучной рутинной работы, а люди смогут в освободившееся время научиться чему-то новому. Но лично я пока не решаюсь даже на то, чтобы какую-то черновую работу ему отдать. Не потому что не доверяю, а потому что люблю ее сам и не хочу делиться. Это как если бы вам предложили не ездить в отпуск, отдать на аутсорс процесс купания в море и хождения по горам, зато сразу вернуться отдохнувшим. Такая ведь цель стоит, вернуться отдохнувшим? А поплавает за вас кто-то другой.
В литературе и вообще любом искусстве продукт — это не главное, это побочный эффект. Ты никогда не можешь быть уверен в том, что твоя книга или картина кому-то понравится, что за нее заплатят денег. А вот то, что происходит с тобой в процессе творчества, — вот это круто. И отдавать это нейросети — значит просто выбросить в мусорку, потому что она даже испытать этой эйфории не сможет.
Меня спросили про основные качества, которые нужны творческому человеку, чтобы построить карьеру. Готового рецепта у меня нет, но есть минимальный набор для признания в плюс-минус любой области. Выглядит он так:
не будь уродом,
не веди себя, как говно,
разговаривай с людьми нормально.
Это уже как минимум половина успеха.
Что такое биофобия и как ее преодолеть
Почему современные люди чувствуют себя неуютно в любой среде, где доминируют природные объекты
Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом
Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках
Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас
Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года