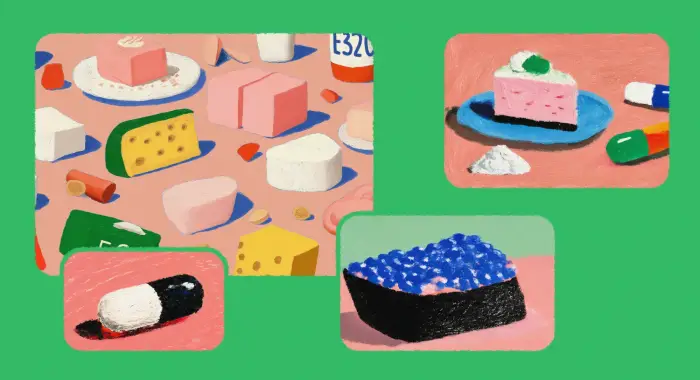Почему мы перестали влюбляться по-настоящему
Социолог Полина Аронсон — о том, как молодые россияне стали строить отношения без лишних эмоций

mododeolhar / Pexels
Одна из иллюзий современного западного мира: в сфере любовных чувств мы свободны, можем любить кого и как угодно. В действительности же наша личная жизнь, как столетия назад, жестко регламентирована представлениями о правильном и неправильном. Например, дарить свои чувства другому в одностороннем порядке считает глупым, нужен взаимовыгодный эмоциональный обмен. Правильный партнер — тот, кто ни коим образом не нарушает ваши границы и не мешает комфортному существованию. Такова она, эпоха эмоционального капитализма, в которой мы живем. Об этом — книга «Любовь: сделай сам» социолога Полины Аронсон. Reminder с сокращениями публикует отрывок из нее.

В начале 2020 года я и мои коллеги Владислав Земенков и Юля Лернер задумали и провели серию интервью о современной русской любви с мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 30 лет, жителями российского города-миллионника. Своих собеседников мы просили рассказать о «личной жизни» и собрали ворох историй о переживаниях, о расставаниях и поисках. Интерпретативный анализ этих интервью привел нас к неожиданным заключениям.
Первое — и самое главное — никто не готов говорить о любви.
Говорят об «отношениях», об «агрегатных состояниях личного взаимодействия». О сексе — о нем говорят много, охотно, ничего не скрывают. Часто говорят об «осознанности». «Любовь» же — понятие, использующееся только в двух контекстах: для описания того, что было в прошлом, и для описания того, чего нет сейчас — и не надо, уберите, унесите, с глаз долой, к черту! Влюблялись «раньше»: в школе, на первых курсах института, когда-то там давно, до того как стал «осознанным», когда «наивно верила, что разбиралась в людях», «пока была фаза экспериментов». В 25, 27, 28, 30 лет уже не надо любви, не надо этого обмана. Любовь плохо заканчивается. От нее остается в шкафу свадебное платье с неотрезанной биркой, долги от перелетов на другие континенты, боль в грудной клетке. Вляпаешься — потом костей не соберешь.
Умный в гору не пойдет. К тридцати любить уже как-то неловко, почти неприлично. «Я бы не сказал, что это прямо какая-то любовь — просто нам хорошо вместе, у нас очень большая глубина взаимопонимания, но не так, чтобы любовь». «Я же не ищу любовь, боже упаси. Просто хочется жить полной жизнью». Эти и подобные формулировки мы слышали от мужчин и от женщин; от тех, кто в паре, и от тех, кто один; от тех, кто снимает комнату, и от тех, у кого частный дом в ипотеке. При всех различиях между ними, на первый план выходит одно: на смену «любви» приходят «отношения». Разница между этими понятиями — это разница между фундаментально разными языками в описании человеческого опыта. «Отношения» управляемы, контрактны, регламентированы. Любовь непредсказуема, фундаментально несправедлива (даже «зла»), плохо поддается рационализации. Отношения можно артикулировать языком менеджмента, любовь выражается поэтическим языком — включая, разумеется, и его табуированную часть. У любви есть «единственный» и «незаменимый», всегда наделенный именем, прозвищем, секретным словом и тайным кодом. У субъекта «отношений» имени нет — он анонимизирован до общего понятия «человек»: «человек звонит», «человек опаздывает», «у нас с человеком отличный секс»…
Американский философ Алан Блум отмечал еще 25 лет назад: «„Отношения“ — это бледное, псевдонаучное слово, сама невнятность которого делает крепкие привязанности невозможными. Этот способ описания связей между людьми опирается на идею ненадежности наших привязанностей, на предположение о том, что мы представляем из себя отдельные атомы, сбивающиеся в кластеры лишь по прихоти, а не по необходимости, — ситуация, которая делает возможным в лучшем случае лишь обоюдный контракт. <...> Нужно быть совершенно бесчувственным бревном, чтобы говорить о своей самой великой любви как об „отношениях“. Можно ли сказать, что у Ромео и Джульетты были „отношения“?»
Смена понятий — от «любви» к «отношениям» — является частью глобального культурного процесса, который многие исследователи называют «терапевтическим поворотом», то есть торжеством понятийного аппарата популяризированной психологии как в частной, так и в публичной жизни. Этот понятийный аппарат «предполагает работу над собой, в ходе которой индивидуум обнаруживает свои подлинные эмоции, исследует их и распознает их значение, а затем учится управлять ими», — объясняет Юля Лернер.
В этой модели в личной истории роль первородного греха играет травма: она неизбежна, ею отмечен каждый, а смысл всей жизни заключается в непрерывном и поступательном ее преодолении. Способность выстраивать «здоровые отношения» — отношения, не воспроизводящие травму, — становится свидетельством личного успеха, залогом не напрасно прожитой жизни. Муки любви больше не рассматриваются как нечто, присущее человеку и, более того, делающее его человечным. Напротив: страдания являются лишь свидетельством того, что личность не сумела себя «грамотно» сформировать. «Чрезмерная любовь подозрительна: это обсессивное поведение, которое пытается компенсировать недостаток любви в детстве. Правильная же любовь не связана с болью; ранит только нездоровая любовь», — говорит Юля Лернер. «„Жизнь страстями“, характерная для позднесоветского поколения, оттесняется на периферию в публичных и приватных дискурсах. <...> В биографических нарративах рассказывается о контроле над эмоциями, о рациональном поиске и выборе партнеров, о преимуществах браков по расчету. Романтическая любовь перестает выступать структурно образующим стержнем рассказов о сексуальности», — отмечали социологи Елена Здравомыслова и Анна Темкина еще в начале 2000-х.
Переосмысление любви с точки зрения того, вписывается ли она в схему «здоровых отношений», происходит повсеместно, причем переоценке подвергаются не только частные любовные драмы, но и коллективные нарративы о любви. Если еще 20 лет назад история Жени и Нади из главной советской новогодней сказки казалась многим идеальным сценарием любви — сценарием, написанным самой судьбой, — то сегодня психологи высказывают серьезные опасения по поводу их союза. «Каждая женщина встречала на своем пути вот таких среднестатистических мужиков, которые к 35-36 годам хороши только тем, что не женаты и для поклонниц на гитаре играют. Добавьте к этому его робость, нерешительность, мягкотелость, слепую преданность матери, пьющих без меры друзей и несомненные проблемы с алкоголем у него самого. <...> Естественно, на такого мужчину может „охотиться“ тоже не вполне зрелая женщина», — пишет семейный терапевт Мария Дьячкова в «Московском комсомольце». Характеристика, данная Жене Ипполитом — «для таких, как вы, главное — не разум, а чувства, импульс. Такие, как вы, — угроза для общества» — была исчерпывающим описанием идеального возлюбленного в 1970-х. Сегодня она — основа для диагноза. Положительным героем в сиквеле «Иронии судьбы» теперь предстает сам Ипполит — мужчина в крепкой меховой шапке, на автомобиле и с духами для невесты. Женя — это «любовь». Ипполит — это «отношения».
Действительно, романтические герои режима судьбы — Вронские, Онегины и Печорины — сегодня многим уже вовсе не кажутся привлекательными. От них веет нарциссизмом, насилием, пренебрежительным отношением к женщине; от них веет патриархатом. Точно так же вызывают понятное сопротивление и любовные истории эпохи развитого социализма: этот вечный осенний марафон, где женщина все время чего-то ждет, а мужчина все время в чем-то оправдывается.
Еще один липкий кошмар — это повседневная жизнь, грозящая ежесекундно потерять опору и распасться на волокна. «Ну вы поймите же, — говорит 23-летний Саша, — в России людям только любви не хватало. Тут и так каждый выживает, как может. Когда приходишь домой, хочется только одного — чтобы тебя оставили в покое». Контекст личной жизни — это непрекращающаяся, непрерывная усталость; именно усталость подчеркивается в интервью как едва ли не самое стабильное ощущение от жизни — вопреки чередующимся рассказам о заграничном отпуске, любимых ресторанах и маршрутах городского шопинга. Этому видимому противоречию есть как минимум два объяснения. Объяснение первое: необходимость испытывать усталость и говорить о ней — это одна из социальных норм неолиберализма. Если ты не устал — значит, ты недостаточно работал, в том числе недостаточно работал над собой. Усталость — экзистенциальное состояние современного человека, потрясенного переизбытком доступной ему свободы, считают некоторые философы и социологи. Подчеркивая свою усталость, мы в то же время подчеркиваем принадлежность к режиму выбора — то есть принадлежность к авангарду человечества. Объяснение второе: в постсоветских обществах под субъективным ощущением усталости или депрессии нередко скрывается понимание своего гражданского бесправия. Неспособность участвовать в политических процессах даже самого низового уровня ведет к отчаянию самых разных людей, включая и тех, кто не разделяет оппозиционных лозунгов или считает себя лояльными власти.
«Отношения» выступают как зона комфорта, как симметричный, аккуратно подстриженный островок покоя в агрессивно настроенном мире, полном насилия и непредсказуемостей. Идеальный любовник этого мира, действительно, уже не Вронский и не Печорин, а совершенно неожиданный персонаж — Илья Ильич Обломов, на пике влюбленности в Ольгу Сергеевну заключивший для себя, что ему «к лицу покой, хотя скучный, сонный; а с бурями я не управлюсь». Любовь — это слишком большой проект, на который уставшему субъекту постмодерна (особенно в его постсоветском изводе) просто не хватает сил.
Книга предоставлена издательством Individuum. Приобрести ее можно здесь.
Сауна помогает выводить токсины? Научный взгляд
Разбираемся, как парение на самом деле влияет на организм
Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом
Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках
Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас
Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года