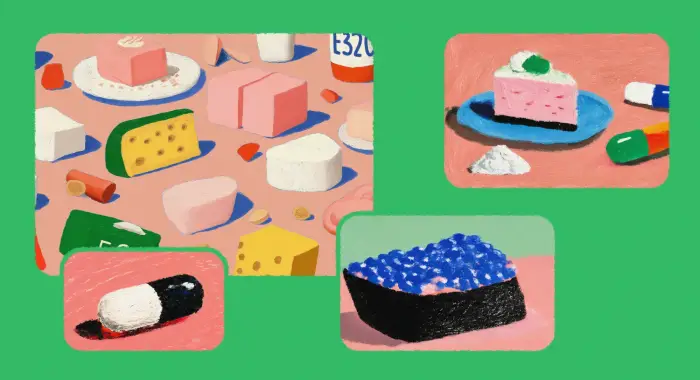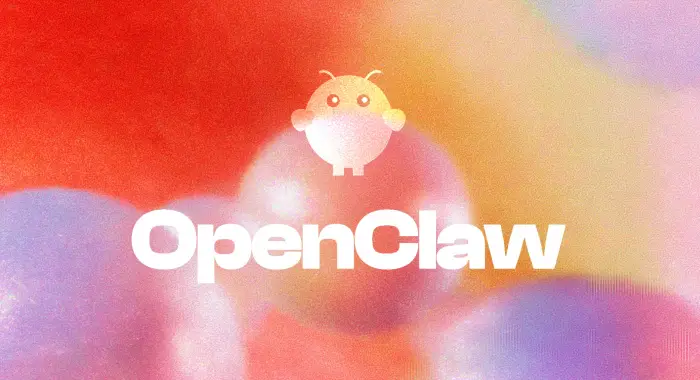«Мозг — такой же орган, как печень, только сложнее»
Нейробиолог и основатель проекта NeurOmix Филипп Хайтович о диагностике депрессии по анализу крови

Филипп Хайтович
Представьте, что у вас несколько дней болит живот, появилась тошнота и повысилась температура. Скорее всего, вы срочно пойдете к врачу-гастроэнтерологу, чтобы тот назначил анализы и обследования, поставил диагноз и выбрал лечение. Но если возникают проблемы с настроением — упадок сил, подавленность, потеря интереса к жизни — мало кто сразу обращается к психиатру. Хотя, как и болезни тела, ментальные расстройства со временем могут становиться тяжелее, если их не замечать и не лечить.
Частично позднее обращение к врачам связано с тем, что пока не существует тестов, которые бы отражали изменения разных систем организма при расстройстве. Ученые стараются это исправить: один из подобных тестов разрабатывает лаборатория Филиппа Хайтовича — профессора и директора Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха. Сначала команда исследователей под руководством Филиппа показала, что мозг людей с ментальными расстройствами отличается от здорового по составу липидов — молекул жира, которые нужны для строительства оболочек нейронов, а также для получения энергии.
Позже нейробиологи предположили, что состав липидов может отличаться у больных и в плазме крови — и это позволило бы использовать анализ для диагностики. Действительно, совместное исследование Сколтеха с институтами и больницами в России, Германии, Китае и Австрии показало, что математическая модель может надежно отличать кровь здорового человека от образцов людей с большим депрессивным расстройством, биполярным расстройством и шизофренией. Так родилась технология NeurOmix, которую в ближайшие несколько лет ученые планируют внедрять в клиники.
Мы поговорили с Хайтовичем о диагностике ментальных расстройств, его технологии и перспективах психиатрии в России.
Просто набор симптомов
— Почему ментальные расстройства до сих пор диагностируют только в беседе с психиатром и по опросникам?
— Психиатрия сейчас как будто отделена от остальной медицины. Мы воспринимаем болезни мозга как что-то особенное, хотя мозг — такой же орган, как печень, только сложнее. Его болезни, скорее всего, системные. В том числе, депрессия: изменения происходят не только в нервной системе, вероятно, участвуют и другие системы организма. Просто это все пока плохо изучено. Поэтому помимо бесед и опросников мы можем только проверять человека на сопутствующие проблемы — например, исключать опухоли или нейродегенеративные процессы.
— Что именно делает психиатр при постановке диагноза, почему мало одного опросника?
— Психиатр разговаривает с человеком, опирается на опыт и будто магически понимает, что с пациентом происходит. Так часто говорят — что хороший врач еще на входе пациента в кабинет уже примерно понимает, в чем проблема. Это означает, что существуют признаки, поведенческие или речевые маркеры, которые опытный врач считывает, а, например, я — нет.
Хорошо было бы найти другие способы диагностики, потому что далеко не каждый может сразу пойти к психиатру. А если тебе говорят: «Иди просто сдай анализ, посиди перед компьютером или сходи энцефалограмму сделать», я думаю, на такое я бы вполне согласился.
Нас окружает столько стресса, столько неопределенности и столько неестественных для нас стимулов, к которым мы не приспособлены в принципе. Возможность мониторить свое психическое состояние и вовремя заметить, что мы движемся в опасном направлении, позволила бы менять образ жизни так же, как мы меняем питание при высоком холестерине.
— То есть ментальные расстройства тоже усугубляются со временем без лечения, как, например, болезни сердца?
— Да, хотя это не совсем корректная аналогия, потому что механизм депрессии нам неизвестен. Но в обоих случаях речь идет о системном расстройстве, затрагивающем разные органы или функции. Если не устранить причины, изменения действительно могут постепенно усугубляться. Это хорошо известно психиатрам и психологам, поэтому люди и обращаются за помощью.
— Что мы вообще знаем о механизмах депрессии? И чего не знаем?
— К сожалению, сейчас депрессия — это, скорее, набор симптомов. В отличие от заболеваний сердца или желудка, где процессы на разных уровнях хорошо описаны, здесь такого понимания нет.
Эмпирически видно, что, например, ингибиторы обратного захвата серотонина — привычные всем антидепрессанты — действительно повышают концентрацию серотонина в мозге и снимают симптомы. Но есть работы, которые показывают, что у пациентов с рекуррентной депрессией, то есть с повторяющимися эпизодами, долгосрочное применение антидепрессантов не улучшает прогнозы по сравнению с теми, кто их не принимает. То есть эти препараты облегчают симптомы, но, видимо, на сам механизм заболевания почти не влияют. А в остальном мы знаем очень мало.
Метаболиты в крови и депрессия
— Как пытаетесь диагностировать депрессию вы?
— Мы пытаемся разобраться, что же все-таки представляет собой механизм депрессии. Поэтому изучаем изменения в мозге пациентов после смерти и используем новые методы мультиомного анализа, которые позволяют смотреть сразу на разные классы молекул, из которых состоит мозг. Предыдущие работы показывали изменения в активности генов, уровнях определенных белков, но целостной картины до сих пор нет. Мы добавили к этим данным новый пласт — метаболический. Метаболиты — маленькие молекулы, обеспечивающие мозг энергией и строительными блоками. И мы видим, что при депрессии метаболический профиль мозга меняется довольно сильно.
После этого мы решили попробовать сделать тест, основанный на изменениях количества метаболитов в плазме крови. Мозг у живого человека на анализ не возьмешь, а кровь — можно. Он не основан на одной-двух молекулах — чтобы его выделить, нужно проанализировать несколько десятков метаболитов, объединить их и построить математическую модель (речь идет о модели машинного обучения, которая обучена отличать профили из концентраций метаболитов у людей с ментальными расстройствами и здоровых. — Reminder). Эта модель достаточно хорошо классифицирует людей с выраженной симптоматикой — даже если они еще не были пациентами, а просто пришли с улицы. А когда с ними беседует психиатр, он подтверждает: да, у этих людей действительно есть проблемы, им нужна помощь.
Но, к сожалению, механизм заболевания мы все еще не поняли. И сам тест пока далек от идеала: есть ложноположительные и ложноотрицательные результаты — порядка 5%. Если переносить это на популяцию, процент ошибок получается довольно значительный, его нужно минимизировать.
— Почему при депрессии меняется состав липидов и других метаболитов в мозге и в крови?
— Меняется все, на разных уровнях организации: генов, их активности, белков, метаболитов. Липиды — это еще один уровень организации клетки, прежде всего, ее мембраны. Если говорить про нейроны, все самое интересное у них происходит на мембранах: потенциалы действия, деполяризация, синаптические контакты, открытие каналов, запуск сигнальных каскадов — все это события мембраны.
Мембрана — это среда, в которой плавают белки, рецепторы, кофакторы, как корабли в море. В зависимости от ее структуры, это плавание может быть свободным, а могут возникать полукристаллические участки — так называемые липидные рафты, или плоты. Они фиксируют положение определенных белков. Для многих процессов, например, для запуска сигнала или его модуляции, важно, чтобы белки могли свободно перемещаться и встречаться друг с другом. Если мембрана закристаллизовалась, этот процесс блокируется. Это один из примеров того, как изменения липидного состава мембран могут повлиять на функции нейронов.
— То есть можно сделать вывод, что при депрессии нарушается связанность нейронов и их способность передавать сигнал?
— Такой вывод сделать можно, но он слишком общий. И так понятно, что «что-то меняется», иначе не было бы патологии. А нам нужно гораздо более конкретное понимание, чтобы разрабатывать эффективную терапию и методы профилактики, что еще важнее. До такого уровня детализации мы пока, к сожалению, не дошли.
— Какие есть основные гипотезы, это как-то связано с симптомами?
— Это сложный вопрос. Чтобы ответить, нужно смотреть динамику — как меняется состав мозга по мере развития симптоматики. Но у людей [получить мозг на разных стадиях развития болезни] невозможно. Поэтому нужно переходить на модели: мышей и обезьян.
У мышей депрессию индуцируют разными стрессорами: социальным стрессом, непредсказуемым стрессом, информационным стрессом. Через некоторое время у животных развивается симптоматика: снижение интереса к удовольствиям, снижение любопытства, апатия. Например, дают сладкую воду — обычные мыши пьют ее охотно, а мыши после стресса — нет. Есть генетические модели.
На обезьянах есть классические работы, сделанные еще лет 70 назад, когда с помощью социального стресса, социальной агрессии, изменения иерархии — когда ты был альфа-обезьяной, а стал омега-обезьяной — вызывали у животных депрессию. Обезьяны, в принципе, ближе к нам, чем мыши, и нам проще считывать их поведение. В питомниках иногда встречаются обезьяны, которые демонстрируют, на наш взгляд, очень похожую на депрессию симптоматику: они сидят в углу, ни с кем не взаимодействуют, плохо едят, теряют интерес к окружающему.
— Кто принимал участие в исследованиях технологии NeurOmix, сколько было человек?
— В России у нас были выборки из разных регионов: Москва, Уфа, Екатеринбург. Еще были образцы из Германии и Китая. Мы уже много лет работаем над тестом и обкатали его примерно на 9000 образцов. Например, совместно с Московским центром персонализированной медицины и Медтехом провели исследование на добровольцах: около 1000 человек сдали кровь. Среди них мы выделили небольшую группу с высоким риском по нашему тесту. Они параллельно заполняли те самые опросники (Опросники, по которым оценивают тяжесть депрессивных симптомов. — Reminder). Оказалось, что у людей с высоким риском и по опроснику, и по тесту в 100% случаев психиатр после очного осмотра ставил диагноз депрессии. Если же брать только опросник, точность была меньше 50%.
Некоторые из них уже имели диагноз и принимали антидепрессанты, но были и те, кто просто чувствовал себя плохо, без официального диагноза, при этом даже с мыслями о суициде. Хорошо, что этим людям специалисты в итоге смогли помочь.
— А как метаболиты из мозга попадают в кровь?
— Ну, не напрямую. [...] Я не буду притворяться, что мы понимаем механистически, как именно эта связь устроена. Мы просто решили сделать выстрел в небо: если мы видим изменения состава метаболитов в мозге при депрессии, не увидим ли мы что-то подобное в крови? И действительно, видим. И не только мы: есть довольно много лабораторий, публиковавших похожие результаты.
— При биполярном расстройстве, шизофрении, ПТСР тоже бывает депрессивная симптоматика. Ваш тест различает эти диагнозы?
— Не со стопроцентной точностью. Это направление, в котором нам еще предстоит работать. И, конечно, мир не ограничивается биохимией крови. Гораздо продуктивнее собрать диагностическую цепочку и добавить в нее и другие тесты.
«Через пять лет это вполне может быть применено в клинике»
— Какие планы по внедрению этого теста сейчас?
— Мы уже пилотируем его, пока в исследовательском режиме, некоммерчески. К сожалению, у нас пока нет возможности просто взять и предложить людям прийти и сдать этот тест, потому что нужна официальная регистрация метода.
Параллельно с доработкой самого теста и его внедрением в клинику мы думаем о создании диагностической панели — даже не совсем для постановки диагноза, а скорее для оценки рисков. А уже потом человек идет к врачу, и тот решает, что делать дальше.
Наша цель — подтянуть психиатрию до уровня соматической медицины по части диагностики. Нет причин, по которым у него не должно быть объективных тестов, особенно с современными технологиями.
— Что можно включить в такую диагностическую панель, помимо анализа крови?
— Есть много разных работ. Например, речевой анализ, который довольно хорошо дифференцируют людей с разными психическими заболеваниями. Есть анализ, основанный на движениях глаз — например, куда человек смотрит в определенных ситуациях. Есть общий анализ двигательной активности — он применяется при разных психических расстройствах, особенно нейродегенеративных.
Существуют более сложные методы: энцефалография, тесты с элементами виртуальной реальности. Но они требуют больше времени и ресурсов. Такие методы можно применять, если человеку нужно уточнить результат скрининга до визита к специалисту.
У каждой системы будут свои сильные и слабые стороны, поэтому, на мой взгляд, перспективна именно комбинация: несколько тестов, которые, с одной стороны, дешевые, простые в применении и легко внедряемые в клинику, а с другой — очень информативные с точки зрения психического состояния человека. Я уверен, что при достаточном усилии в горизонте пяти лет это вполне реально может быть применено в клинике на очень хорошем уровне.
Что такое биофобия и как ее преодолеть
Почему современные люди чувствуют себя неуютно в любой среде, где доминируют природные объекты
Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом
Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках
Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас
Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года