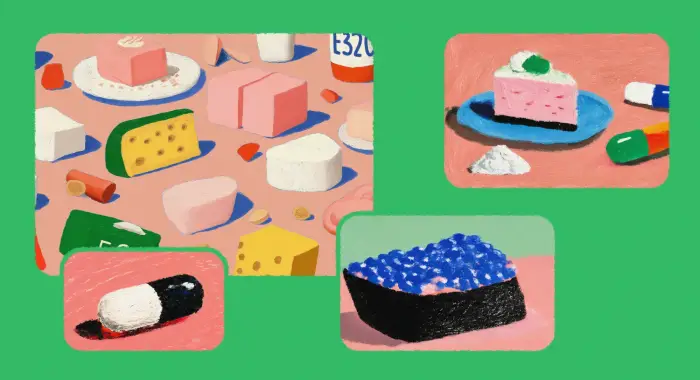Ген музыки: как наши предки освоили мелодии и ритмы для очарования противоположного пола
Психолог и продюсер — о человеческой одержимости звуками, которая помогает нам развиваться, социализироваться и находить любовь

Andrew / Pexels
Описывая причуды эволюции, писатель Владимир Набоков (а он был еще профессиональным энтомологом и работал в лаборатории) приводил в пример южноамериканскую бабочку Caligo eurilochus Cramer. Круглые узоры у нее на крыльях имитирует капли росы с такой сверхъестественной точностью, что пересекающие воду прожилки слегка искривляются, как будто искаженные преломлением света. Художественная изощренность, которую вряд ли способен оценить мозг гипотетического врага — птицы или ящерицы. Одним из таких бесполезных украшений многие ученые считают и музыку. Но на самом деле пение, танцы и ритмичные биты играют важную практическую роль в жизни нашего вида, уверен психолог и музыкальный продюсер Дэниел Левитин. Reminder публикует фрагмент из его книги «На музыке: наука о человеческой одержимости звуком», посвященный тому, как музыка помогает нам учиться говорить, социализироваться и — размножаться.
Время от времени мы обнаруживаем нечто такое, что трудно объяснить с точки зрения эволюции. Палеонтолог Стивен Джей Гулд назвал такие явления антрвольтом, позаимствовав термин из архитектуры. Например, по плану купол должны поддерживать четыре арки. Между арками обязательно будет какое-то пространство стены не в силу необходимости, а просто потому, что это издержка проектирования. Чтобы заполнить эти промежутки, художники начнут размещать там ангелов и декор. Так побочный продукт замысла архитекторов превратится в одну из самых красивых частей здания.
Один из таких антрвольтов — музыка. Для многих ученых она — побочный продукт развития языка, эволюционная случайность или, как выразился знаменитый нейробиолог Стивен Пинкер, «слуховой чизкейк». Любовь к чизкейкам не развивалась эволюционно, зато эволюция подарила нам пристрастие к жирам и сахарам, которые были у нас в дефиците на протяжении всей истории. Люди развили нейронный механизм, который стимулирует центры вознаграждения, срабатывающие при употреблении сахаров и жиров, потому что раньше они были доступны лишь в небольших количествах. Однажды люди обнаружили, что чизкейк нажимает кнопку удовольствия от поступления в организм жира и сахара, объяснил Пинкер. И так вышло, что музыка тоже щекочет нам центры удовольствия, предназначенные для языковых способностей: нажимает на кнопки в слуховой коре, в системе, реагирующей на эмоциональные сигналы в человеческом голосе, когда он плачет или воркует, в моторнодвигательной системе, которая задает мышцам ритм при ходьбе или танце. Но, в отличие от языка, зрения, социального мышления и физических навыков, музыка может исчезнуть, и это не повлияет на остальные сферы нашей жизни.
Космолог Джон Барроу тоже утверждал, что музыка не играет роли в выживании вида, а психолог Дэн Спербер даже обозвал ее «эволюционным паразитом». Музыка, по его мнению, эксплуатирует нашу языковую способность, необходимую для настоящей коммуникации.
Но что, если они ошибаются? Обратимся к фактам. Музыка известна человечеству очень давно. Она возникла раньше земледелия. Музыкальные инструменты — одни из древнейших найденных нами артефактов. Возраст обнаруженной в Словении флейты, сделанной из бедренной кости вымершего пещерного медведя, — около 50 000 лет. Археологическая летопись демонстрирует непрерывную историю музыкального творчества везде, где мы находим следы людей. И, конечно, наши предки пели еще до изобретения флейт. Вряд ли вид станет так долго расходовать время и энергию на деятельность, бесполезную для адаптации.
Каждый человек, живущий сегодня, состоит из генов, победивших в длительной крупномасштабной конкуренции. Чтобы гены не исчезли, организму нужно любой ценой оставить потомство и обеспечить ему возможность размножения. Для этого в геноме должны быть закодированы качества, которые заинтересуют партнера. Если в глазах женщин привлекательны мужчины с квадратной челюстью и внушительными бицепсами, то именно они и будут воспроизводить свои гены более успешно, чем их конкуренты с узкой челюстью и худыми руками. Тогда в генофонде человечества станет больше генов, отвечающих за квадратную челюсть и внушительные бицепсы. Если бы музыка не повышала приспособленность, то ее любители оказались бы в невыгодном положении с точки зрения размножения и выживания.
Способна ли музыка играть в половом отборе какую-то роль? Дарвин считал, что способна. В «Происхождении человека» он писал: «Я прихожу к заключению, что музыкальные ноты и ритм впервые освоили мужчины и женщины из числа прародителей человечества ради очарования противоположного пола. Таким образом, музыкальные звуки стали прочно ассоциироваться с некоторыми из самых сильных увлечений, на которые только способно животное, и, следовательно, используются им инстинктивно…» При поиске партнера внутренние механизмы подталкивают нас, сознательно или бессознательно, к тому, кто биологически и сексуально нам подходит и может произвести с нами на свет здоровых детей, в будущем тоже способных найти себе пару. Музыка может указывать на биологическую и половую приспособленность потенциального парнера и, таким образом, служить стимулом для привлечения. Не случайно по количеству сексуальных партнеров рок-звезда может в сотни раз превосходить среднестатистического человека. У Джими Хендрикса были «сексуальные связи с сотнями фанаток», — пишет когнитивный психолог Джеффри Миллер. Роберт Плант, солист группы Led Zeppelin, вспоминает свои большие концертные туры в семидесятые: «Я всегда ехал навстречу любви. Всегда. Куда бы я ни направлялся, машина привозила меня к одному из самых потрясающих сексуальных контактов в жизни».
Миллер предполагает, что в условиях, которые, вероятно, существовали на протяжении большей части нашей эволюционной истории, когда музыка и танец были неразделимы, музыкальность и способность танцевать служили признаком половой приспособленности сразу по двум направлениям. Во-первых, любой, кто мог петь и танцевать, демонстрировал потенциальным партнерам свою выносливость и общее хорошее здоровье, физическое и умственное. Во-вторых, любой, кто достиг совершенства в музыке и танцах, сообщал тем самым, что он достаточно обеспечен и защищен, чтобы позволить себе тратить драгоценное время на развитие совершенно ненужного для выживания навыка. В этом смысле музыка — что-то вроде прекрасного павлиньего хвоста, который сигнализирует: у меня такой хороший метаболизм, что я могу позволить себе тратить ресурсы впустую — исключительно ради красоты. В современном обществе интерес к музыке также достигает пика в подростковом возрасте, что еще больше усиливает ее связь с половым отбором. Девятнадцатилетние куда чаще собирают группы и пытаются играть что-то новое, чем те, кому исполнилось сорок, несмотря на то что у последних было больше времени на формирование музыкальных способностей и предпочтений. «Музыка развивалась и продолжает функционировать как демонстрация ухаживания», — утверждает Миллер.
Когда поведение или признак широко распространены среди представителей вида, мы считаем, что они закодированы в геноме (независимо от того, была ли это адаптация или антрвольт). Для проявления адаптации в человеческом геноме требуется не менее 50 000 лет. Это называется периодом эволюционного отставания — промежутком между первым появлением нового признака у небольшого количества особей и моментом, когда он уже широко распространился в популяции. Когда мы задаемся вопросом об эволюционных основах музыки, нет никакого смысла представлять себе Бритни Спирс или Баха. Нам нужно думать о музыке, какой она была около 50 000 лет назад. А во всех древних обществах, о которых нам известно, музыка и танец были неразделимы.
Музыка превратилась в шоу со зрителями всего лишь в последние 500 лет — на протяжении большей части истории люди были незнакомы с идеей концерта, где некие мастера выступают перед благодарной аудиторией. Только в последние 100 лет или около того связь между музыкой и танцем свелась к минимуму. Нераздельность движения и звука, как пишет антрополог Джон Блэкинг, характеризует музыку во всех культурах и во все времена. Большинство из нас были бы шокированы, если бы зрители на симфоническом концерте вставали со своих кресел и хлопали в ладоши, улюлюкали, кричали и плясали, как на концерте Джеймса Брауна. Однако реакция на Джеймса Брауна, несомненно, ближе к нашей истинной природе.
Если танец у наших предков походил на то, что мы наблюдаем сегодня в племенах, сохранивших первобытный уклад, то он должен был длиться часами и предполагал серьезную аэробную нагрузку. Это служило бы отличным показателем приспособленности самца к участию в охоте или к руководству ею. Большинство племенных танцев предполагает высокое поднятие ног, топот и прыжки, в которых участвуют самые крупные мышцы тела, расходующие больше всего энергии. А если учесть, что многие психические и неврологические заболевания (например, шизофрения и болезнь Паркинсона) подрывают способность танцевать или исполнять ритмические движения, танцы могут служить показателем физической и интеллектуальной приспособленности.
Коллективное музицирование может способствовать и социализации. Люди — социальные животные, и музыка, вероятно, исторически служила для развития чувства групповой идентичности и синхронности. Пение у костра в древности помогало не заснуть, отогнать хищников и развить социальную координацию и сотрудничество внутри группы. Подтверждение влияния музыки на социальные связи может служить мое исследование совместно с неврологом Урсулой Беллуджи. Мы изучали людей с синдромом Вильямса и расстройствами аутистического спектра (РАС). Синдром Вильямса — это генетическая аномалия, которая вызывает отклонения в нейрональном и когнитивном развитии, приводящие к нарушениям интеллекта. Но люди с этим синдромом, несмотря на общее умственное расстройство, очень музыкальны и общительны. Люди с РАС резко с ними контрастируют. Их характерная особенность — неспособность сопереживать другим и понимать эмоции, особенно чужие. Они, конечно, не роботы и могут злиться и грустить. Но «считывать» эмоции других людей им трудно. И это, как правило, ведет к полной неспособности оценить эстетические качества произведений искусства. Некоторые люди с РАС играют на музыкальных инструментах и даже достигают технического мастерства. Однако сами признаются, что по-настоящему музыка их не трогает. Вместо эмоций в музыке их привлекает структура.
С одной стороны у нас люди невероятно общительные, контактные и очень музыкальные. С другой стороны — люди асоциальные и немузыкальные. Гипотеза состоит в том, что может существовать такой кластер генов, который влияет как на общительность, так и на музыкальность. В мозге людей с синдромом Вильямса и РАС обнаружены «противоположные» нарушения. Новый мозжечок — эволюционно самая молодая часть мозжечка — у людей с синдромом Вильямса крупнее среднего, а у людей с РАС — меньше. Поскольку мозжечок играет важную роль в музыкальном восприятии, это не кажется удивительным. По-видимому, некоторые до сих пор не идентифицированные генетические аномалии прямо или косвенно вызывают нейрональную дисморфологию при синдроме Вильямса и расстройствах аутистического спектра.
Так как гены образуют сложную систему и взаимосвязаны друг с другом, можно с уверенностью сказать, что между общительностью и музыкальностью есть и другие генетические корреляты, выходящие за пределы мозжечка. Генетик Джули Коренберг предположила, что существует кластер генов, связанных с общительностью и сдержанностью, и что у людей с синдромом Вильямса отсутствуют отдельные гены сдержанности, благодаря чему они реагируют на музыку более раскованно. Мы сканировали мозг людей с синдромом Вильямса во время прослушивания музыки и обнаружили, что у них задействуется значительно больший набор структур мозга, чем у других. Активация в миндалине и мозжечке — эмоциональных центрах мозга — оказалась гораздо выше средних показателей. Их мозг чуть ли не гудел.
Еще одной эволюционной ролью музыки могла быть помощь в когнитивном развитии. Пение и игра на инструментах, вероятно, помогли нашему виду усовершенствовать моторные навыки, проложив тем самым путь для развития точного мышечного контроля, без которого не было бы устной и жестовой речи. Музыка и речь обладают многими общими чертами, и, таким образом, музыка может стать своеобразной «тренировкой» восприятия речи. Обработка музыкальных сигналов дает возможность младенцам подготовиться к овладению речью. Музыка для развивающегося мозга — своего рода игра, упражнение, которое стимулирует интегративные процессы более высокого уровня, развивающие исследовательскую компетентность и готовящие младенца к развитию языка через лепет.
Взаимодействие матери и ребенка через музыку почти всегда включает в себя как пение, так и ритмические движения, например покачивания и поглаживания. По-видимому, это явление универсально для разных культур. В первые полгода жизни мозг младенца не способен четко различать источники сенсорных стимулов: зрение, слух и осязание сливаются для него в единое перцептивное представление. Области мозга, которые в конечном итоге станут слуховой корой, сенсорной корой и зрительной корой, функционально не дифференцированы, и входящая информация из разных сенсорных рецепторов может соединяться со многими различными частями мозга, а отсечение лишних связей произойдет на более поздних этапах жизни. Как описал это клинический психолог Саймон Барон-Коэн, с таким перекрестным взаимодействием сенсоров младенец живет в состоянии полного психоделического великолепия (причем без галлюциногенов).
Одной из наиболее цитируемых научных работ в нейробиологии за последние 20 лет, несомненно, стало открытие зеркальных нейронов в мозге приматов. Джакомо Риццолатти, Леонардо Фогасси и Витторио Галлезе изучали механизмы, отвечающие у обезьян за способность дотягиваться до предметов и хватать их. Ученые считывали информацию с одного нейрона в мозгу обезьяны, когда та тянулась за кусочками пищи. В какой-то момент Фогасси сам потянулся за бананом, и нейрон обезьяны тот самый, который был связан с движением, — тоже активировался. Как такое могло произойти, если обезьяна не двигалась? «Сначала мы подумали, что это ошибка в измерениях или сбой в работе оборудования, — вспоминает Риццолатти. — Но мы все перепроверили, и реакция повторилась, когда мы провели еще один опыт». Через 10 лет изучения этого вопроса было установлено, что у приматов, у некоторых птиц и у людей есть зеркальные нейроны, которые активируются как при совершении действия, так и при наблюдении за кем-то другим, выполняющим то же действие. В 2006 году Валерия Газзола из Гронингенского университета в Нидерландах обнаружила зеркальные нейроны в области моторной коры головного мозга человека, отвечающей за движения рта, которые срабатывали, когда люди просто слушали, как другие едят яблоко.
Назначение зеркальных нейронов, по-видимому, состоит в том, чтобы подготовить организм к движениям, которых он раньше не совершал. Мы обнаружили зеркальные нейроны в зоне Брока — той части мозга, которая непосредственно участвует в речи и обучении речи. Зеркальные нейроны объясняют давнюю загадку того, как младенцам удается подражать родителям, когда те строят им рожицы. Так же может объясняться и то, почему музыкальный ритм движет нами эмоционально и физически. Некоторые нейробиологи предполагают, что, когда мы видим или слышим выступление музыкантов, у нас срабатывают зеркальные нейроны, поскольку наш мозг пытается выяснить, как создаются эти звуки, и готовится подражать им, задействуя сигнальную систему. Многие исполнители могут воспроизвести музыкальную партию на своем инструменте, прослушав ее всего один раз. Вероятно, и в этой способности задействованы зеркальные нейроны. Возможно, именно они, теперь уже вместе с нотными записями, компакт-дисками и айподами, окажутся важнейшими посланниками музыки, передающими ее между поколениями и способствующими особому виду эволюции — культурной эволюции, посредством которой развиваются наши убеждения, пристрастия и искусство.
Книга предоставлена издательством «Альпина нон-фикшн». Приобрести ее можно здесь.
Хотите больше двигаться? Начните со сна
Чем лучше сон, тем выше физическая активность — но не наоборот
Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом
Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках
Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас
Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года