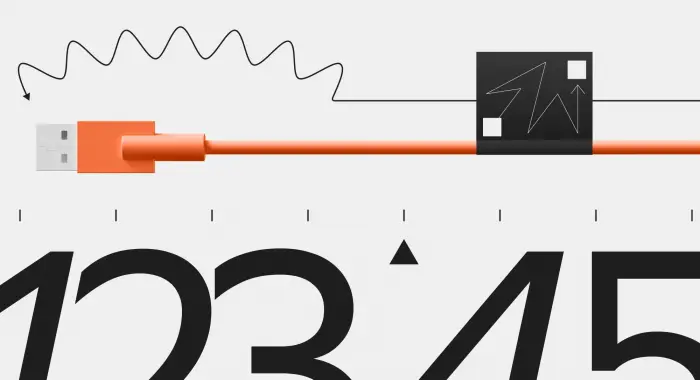«Привязанность — для детей, а для взрослых есть джунгли, где не на кого положиться»
Социолог Полина Аронсон — о том, почему мы боимся любить и сможем ли побороть этот страх в 2020-х

Дружба, любовь и солидарность кажутся универсальными: все мы вроде бы знаем, как они должны выглядеть. На деле наше представление о правильных отношениях постоянно трансформируется. И многое из того, что раньше казалось романтичным, теперь представляется нездоровым и токсичным. Какими станут наши отношения в 2020-х: будут ли индивидуалистичными или альтруистичными, близкими или поверхностными, моногамными или полиаморными? Reminder узнал об этом у социолога эмоций и редактора платформ openDemocracy Russia и dekoder Полины Аронсон.
— Вы часто пишете и говорите о том, как те или иные явления — капитализм, Tinder, пандемия — меняют способы взаимодействия между людьми. Какими будут наши отношения в 2020-х, если судить по уже существующим тенденциям?
— Для социолога заниматься прогнозированием — довольно сложное дело: это уже выход за пределы профессиональной компетенции. Но все продолжают спрашивать, потому что кажется, что если мы снимем слепок с дня сегодняшнего, то сможем предсказать, и что будет в дне завтрашнем. Что мы действительно можем, так это сопоставлять Россию с другими развитыми странами, в которых режим чувствования, который социологи называют «эмоциональным капитализмом», установился раньше. Основная черта эмоционального капитализма — коммодификация чувств, то есть проникновение логики экономической эффективности в сферу эмоционального. Эмоции и переживания в этой перспективе являются капиталом, которым следует управлять и с которого следует получать выгоду.
Такой подход к чувствам — одна из составляющих неолиберального представления о человеке как о частном предпринимателе, управляющем своей жизнью как бизнес-проектом. Отсюда и невероятная популярность позитивного мышления: достаточно верить в себя, и все получится, а если что-то пошло не так, то «никто никому ничего не должен». Конечно, в том, чтобы стремиться стоять на своих ногах, бороться за свои интересы, за удовлетворение своих потребностей — в том числе эмоциональных, — нет ничего плохого. Другое дело, что сегодня в этой борьбе зачастую оказывается утраченной идея общего блага: речь идет исключительно о благах для конкретной группы или конкретного человека. Социал-демократическая картина мира претерпевает кризис, и это характерно не только для России, но и для всего развитого мира.
— Изменится ли это в 2020-х, будем ли мы снова думать о благе не личном, а общем?
— У меня есть такая надежда. Не прогноз, именно большая надежда. Потому что все, что мы наблюдали в 2020 году: Black Lives Matter, cancel culture, разговоры про сексуальный харассмент и абьюз, взорвавшийся просто феминизм, — это в том числе и попытки переосмыслить идею общего блага. Очень долго под общим благом понимался общественный идеал, придуманный белыми западными мужчинами, но к сегодняшнему дню это представление себя дискредитировало. Поэтому разные группы и разные люди начинают искать новые формы солидарности. Пандемия тоже заставила нас задуматься: что же такое солидарность? Мытье рук и ношение масок — или это еще что-то? Может ли человек, который сознательно исключает себя из общения с другими и уходит в самоизоляцию, проявлять солидарность? Очерчивая жесткие личные границы, можем ли мы участвовать в солидарных процессах?
— Удастся ли ответить на эти вопросы в 2020-х?
— Скорее, будем искать ответы. Мой прогноз не об ответах, а о вопросах. Итак, нас будут волновать вопросы солидарности, общего блага и нашей субъектности. Кто мы такие? Мы социальные субъекты или только носители специфических психологических характеристик? Мне кажется, мы будем потихонечку уходить из радикального терапевтического представления о личности только как носителе специфических психологических характеристик в сторону личности как социального актора — того, кто вовлечен в общество и видит себя как его часть.
— Если мы определяем себя через психологические характеристики, травмы детства и так далее, получается бесконечный монолог и никакой коммуникации. Ведь психотерапия, по сути — разговор с самим собой. Допустим, мы уйдем от этого представления. Значит ли это, что мы снова начнем взаимодействовать друг с другом, настроимся на диалог?
— Пока на самом поверхностном уровне — на уровне масс-маркет поп-психологии — мы этого не видим. А видим как раз ящик с инструментами для создания неолиберальной субъектности. «Будь вот таким, и у тебя все получится», обработай себя топором и наждачкой, какие-то качества нивелируй, какие-то, наоборот, прокачай. Будь вот таким. Зачем таким быть, морально ли это, этично ли это, а хорошо ли это на самом деле лично для тебя — такие вопросы ставятся редко.
— Чем плоха поп-психология с советом заботиться о себе? Вроде бы забота о себе — вполне здоровая привычка.
— В целом да. Однако поп-психология часто не подталкивает человека задуматься о том, зачем и почему он стремится к тем или иным идеалам, а просто дает готовый рецепт, как сделать себя более конформным, как удобнее вписать себя в существующие структуры. У психологии же как науки и профессии вообще-то есть сильный освободительный и гуманитарный посыл, практикующие психологи и терапевты обязательно стремятся к пониманию конкретного человека, в том числе — к пониманию множества его социальных ролей и его потребности к привязанности. И этот конфликт между автономностью и привязанностью психологи в каждом конкретном случае разбирают очень бережно. Хорошему терапевту понятно, что привязанность невозможна без некоторого нарушения автономности: быть близким кому-то — значит в этом ком-то нуждаться и принимать решения не полностью независимо, а с учетом его интересов. Но поп-психология намного дальше от профессии и намного ближе к идеологии, и она сильно перекошена в сторону автономности: это удобно продавать, это конформно. Привязанность оказывается вытеснена в область детского, инфантильного.
Недавно, например, Ozon опубликовал список бестселлеров. В пятерке — Михаил Лабковский, Марк Мэнсон с идеей здорового пофигизма, «Пиши и сокращай», а ровно в середине — Людмила Петрановская с книгой про привязанность в жизни ребенка. Получается такой сэндвич. Сверху — две книги про отказ от привязанностей и обязательств, гимн идее «никто никому ничего не должен», человек должен быть абсолютно суверенен и автономен. Снизу — «Пиши и сокращай», которая на первый взгляд учит писать хорошие информационные тексты, но на более глубоком уровне предлагает отказаться от привязанности к своему тексту и превратить письмо в механический, лишенный всяких эмоций процесс. А между ними зажата в тиски идея детской привязанности. Это хорошо отражает то, как сегодня строится личностный идеал: мы видим себя как субъекта, которому необходимо поставить себя в рамки абсолютной автономности, внушить себе необходимость быть полностью суверенными. Привязанность — это для детей, а для взрослых есть джунгли, где выживает сильнейший и где не на кого положиться.
Однако при этом мы видим, что параллельно мобилизуются разные формы заботы о других: волонтерство и гражданское общество — всевозможные экологические, феминистские, урбанистические проекты, помощь бездомным, инвалидам и так далее. Думаю, наша потребность в привязанности и солидарности выражается в этих социально одобряемых формах. А между двумя взрослыми субъектами проявить ее страшно, потому что все мы все боимся того, что поп-психологи ошибочно называют «созависимостью» — то есть банальной потребности друг в друге, в одобрении со стороны другого человека, в помощи, во внимании к себе. Надеюсь, в будущем люди немного расслабятся, перестанут бояться друг друга и начнут, наконец, принимать в себе потребность в привязанности.
— У меня есть ощущение, что пока занимаешься укреплением личных границ, здоровых отношений не получается. Ты так сосредоточен на границах, что не можешь никого подпустить достаточно близко.
— Идея про личные границы широко растиражирована и, как мне кажется, истолкована очень однобоко: чтобы быть успешным, надо обязательно поставить вышки, ввести войска, пограничников с Мухтаром, и пусть никто не посмеет тебя тронуть. Эта оборонительная позиция в чем-то очень напоминает политическое мышление российской власти. Лично я для себя предпочитаю думать не столько о личных границах, сколько о личной территории: а что там внутри, а как там должно быть хорошо, а как сделать это место более обжитым, более комфортным, более приятным, более, может быть, открытым для других. Речь идет уже не столько об обороне и защите этой территории от воображаемых или реальных врагов, а о том, как на этой территории удобнее находиться, жить, кому ее открывать, а кому, может быть, не всегда открывать. Хорошие психологи, когда речь заходит о границах, говорят именно о том, что там внутри. Но в публичном дискурсе, в поп-психологии все это заканчивается господином Лабковским с идеей, что состоявшейся женщине никто не нужен: она никогда не просит помощи, не идет на компромиссы, и вообще ее главная задача — быть абсолютно суверенной. А для чего? А чего я хочу этим добиться? Что дальше-то будет, что хорошего? Тут ответа нет. Просто так удобнее, так вроде бы правильнее.
— Интересно, что параллельно тому, как мы обитаем в этом страхе близости, мы много говорим про немоногамные отношения. Это как-то связано друг с другом?
— Мне тоже кажется, что это часть одного процесса, и большую роль здесь играет именно феминистская критика. Она справедливо говорит, что моногамия — это первичная форма организации патриархата, способ перераспределения капитала, включая репродуктивный капитал, то есть женщин. Поэтому многие люди начинают ставить моногамию под вопрос: а настолько ли она самоочевидна, как нам кажется? Недавно, например, вышла замечательная книга Марины Травковой «Неверность», я всем советую ее почитать. Марина — практикующий семейный терапевт, она хорошо показывает, что само понятие измены неразрывно связано с понятием патриархального брака. На Западе тем же занимается всем известная Эстер Перель. Как раз Эстер Перель — поп-психолог здорового человека, потому что пишет про привязанность и как сложно сегодня установить отношения близости.
Но крайне важно понимать, что полиамория — это не серия измен и не попытка снизить риск одиночества за счет множества поверхностных связей. Это не избегание близости, а, наоборот, история о приумножении привязанностей. Мы живем в обществе, где первичной формой организации интимности является нуклеарная семья. Еще сто лет назад люди жили в расширенных семьях. Это могло быть тяжело: расширенная семья может быть источником угнетения, особенно для женщин. Но сегодня мы можем сами составлять свои расширенные семьи. И полиамория — именно возможность создать расширенную семью из друзей и возлюбленных, из тех, с кем состоишь в отношениях зарегистрированных и нет, сексуальных — и нет. Гёте называл это Wahlverwandtschaften — «родство по выбору», очень характерная для романтизма идея.
— Как это соотносится с эмоциональным капитализмом, о котором вы много говорите и пишете?
— Мне кажется, что тот идеал, к которому стремится осмысленная, этически продуманная полиамория, скорее ближе к тому, что можно назвать «эмоциональным коммунизмом»: «от каждого по способностям, каждому по потребностям». И здесь я опираюсь на работы замечательного антрополога Дэвида Грэбера. Точнее, на его абсолютно гениальную книгу «Долг: первые 5000 лет истории». Грэбер утверждает, что самая примитивная, первичная форма взаимодействия между людьми — вовсе не эквивалентный обмен «ты мне — я тебе», как характерно для капитализма, а распределение ресурсов по гуманистическим принципам «возьми, что тебе надо» и «делай то, что ты можешь». Он пишет: когда людям нужно срочно совместно решить какую-то задачу — починить протекающую трубу или найти выход из леса, — они начинают действовать «коммунистически». То есть в этом случае они как раз ориентируются на идею общего блага и перераспределяют ресурсы соответствующим образом. И вот этот «повседневный коммунизм», который мы часто находим в дружбе или в отношениях с детьми, в нас намного сильнее, чем хотели бы нас убедить апологеты Айн Рэнд. Поэтому я думаю, что у эмоционального капитализма созревает серьезная альтернатива.
— Но с другой стороны есть ощущение, что мы только говорим о полиамории, но в реальности этичные немоногамные отношения — удел немногих. Станет ли полиамория действительно массовой в 2020-х?
— Это все сильно зависит от условий, в которых люди будут жить в следующем десятилетии. Мы не можем предсказать, какая еще с нами случится пандемия, какой экономический кризис нас ждет. Чем меньше ресурсов, тем более надежной представляется классическая патриархально организованная моногамия. Там все предсказуемо, там знаем, как это работает. Потому и полиамория сейчас скорее распространена среди образованных белых горожан с доходом выше среднего. У всех остальных, у кого нет какого-то ресурса — материального, культурного, социального, — есть сильная необходимость в этой самой понятной и надежной моногамии.
Наверное, можно сказать, что в среде людей, обладающих разными формами капитала, идея о моногамии как единственно правильной форме организации интимности будет все больше ставиться под вопрос. Но это вовсе не значит, что полиамория сразу проникнет в другие социальные среды. Возможно, наоборот, моногамия станет поводом для раздора и возникнут новые формы социальных иерархий. Тогда мы разделимся на тех, кто может себе позволить немоногамию, — и тех, кто не может себе ее позволить. Возникнет социальное противостояние: мол, есть те, кто живет во грехе, а у нас вот духовные скрепы.
— Что насчет знакомств? Откажемся ли мы от Tinder и вернемся ли к исключительно офлайновому дейтингу?
— Дейтинговые приложения как продукт точно никуда не денутся: они отвечают потребностям современного горожанина, который часто переезжает, часто меняет место работы и место учебы. Кроме того, для него идея завязывать отношения в профессиональной среде уже совсем не такая самоочевидная, как для наших родителей: сегодня мы много задумываемся о том, что отношения на работе могут оказаться харассментом. Так область сексуального все больше выводится из области социального. Потому нам действительно нужен инструмент, позволяющий решить проблему поиска партнера. Но Tinder — очень лобовой, кондовый, он превращает романтическое приключение в бесконечные собеседования, целую сложную форму занятости, такой отдельный род деятельности. Неудивительно, что многие пользователи уже говорят о «тиндер-выгорании» и отказываются от этого приложения, а разработчики начинают искать новые принципы создания пар.
И здесь есть два сценария. Первый — пытаться бесконечно рафинировать процесс поиска партнера и довести оптимизацию матчинга до совершенства. Все это происходит и будет происходить на основе некого квазинаучного, экспертного подхода к классификации людей по очень сложно и тонко настроенным критериям. Уже сейчас для создания пользовательского профиля используются сложные психологические тесты, сложные подходы по определению типа личности. Появляются и идеи о поиске партнера по типу пережитой психологической травмы — и так далее. Второй вариант — создавать квазисоциальные пространства, где люди могут знакомиться, просто занимаясь совместной деятельностью. Недавно появилось приложение, которое помогает найти не романтического партнера, а просто хорошую компанию, чтобы выпить кофе и сходить на выставку. Так снимается прессинг матчинга и поиска идеального партнера, ты можешь встречаться с любым количеством людей и искать дружеские, а не обязательно любовные отношения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интервью психолога Марии Даниной о профессиональном и эмоциональном выгорании.
5 самых эффективных упражнений для прокачки бицепсов
Топ лучших тренировок на основе научных исследований
Тренд на трезвость: мировое потребление вина достигло минимума за 60 лет
За пять лет мир стал пить меньше на 30 млн гектолитров
Обучение для взрослых: как начать и не бросить
14 приемов, проверенных наукой и лабораторией Яндекс Практикума